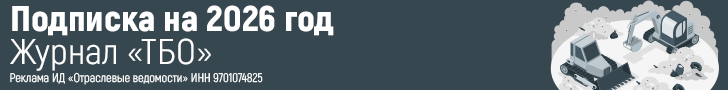23 сентября 2025 года в пресс-центре издательского дома «Аргументы и факты» прошла первая публичная пресс-конференция Союза утилизаторов России — «Росутилизации». Организаторы обозначили её как стартовую площадку для консолидации переработчиков, поиска баланса между реальной себестоимостью работ и ставками экосбора, а также для связи отрасли с регулятором и смежными ведомствами.
Союз зарегистрирован 13 августа 2025 года как общероссийское отраслевое объединение работодателей. Руководящая связка — ринат Гизатулин (председатель) и Ирина Макаренкова (исполнительный директор); на момент запуска объединение заявляло о присоединении порядка 97 компаний из большинства регионов страны. Для отрасли это важная развилка: утилизаторы, которых ранее редко привлекали к расчётам и методикам, получают канал «одним голосом» — как в дискуссиях о ставках, так и в вопросах подтверждения утилизации и проверки реестров.
Новая структура диалога: «одно окно» и предметный разговор с регуляторами
Запрос на системный диалог со стороны переработчиков звучал давно. Модератор прямо сформулировала контекст: реформа расширенной ответственности производителей (РОП), поэтапное повышение нормативов утилизации до 100% к 2030 году, стимулирующие коэффициенты и единая система электронного учёта — всё это повышает цену ошибки и усложняет отчётность утилизаторов. «Росутилизация» предлагает понятный интерфейс — «одно окно» для консультаций, рецензирования и помощи в прохождении проверок, включая экологическую экспертизу и вопросы по оборудованию. Этот блок уже расписан детально: образовательные семинары, разъяснения по рецензированию и подтверждению утилизации, поддержка в переписке с надзором — инфраструктура, которой отрасли заметно недоставало.
Разговор об институциональной роли Союза сопровождался характерным наблюдением: в прежние годы экономика утилизации обсуждалась без системного участия тех, кто непосредственно перерабатывает отходы. В результате индексации и ставки экосбора нередко выстраивались «снаружи», с учётом интересов производителей и опасениями об инфляционном давлении, но без сверки с фактической себестоимостью утилизации по сложным фракциям. Союз заявляет амбицию этот пробел закрыть, а заодно — «разгрузить» Росприроднадзор, чтобы службе не приходилось отвечать «по одиночке» сотням компаний. Такой подход косвенно подтверждают свежие публикации по итогам клубных дискуссий Союза: «одна переговорная сторона» вместо сотен обращений в розницу.
Цифры, от которых следует плясать: объёмы ТКО, «периметр РОП» и мощности отрасли
Для понимания масштаба задачи спикеры воссоздали баланс в цифрах. По расчётам, на которые они ссылались, ежегодный объём твёрдых коммунальных отходов в России — около 48−48,5 млн тонн, из них в «периметр РОП» попадает приблизительно 16−16,5 млн тонн. На текущий год, с учётом действующих коэффициентов, государство ожидает подтверждаемую утилизацию в районе 8,5 млн тонн — либо в виде фактической переработки и выпуска продукции, либо через уплату экосбора. Это не отвлечённая математика: объёмы пересчитываются в деньги. Если «никто не утилизирует, все платят», по действующим ставкам и коэффициентам набегает ориентировочно 45 млрд руб. — средства, которые производители и импортеры уже закладывают в цены продукции. Здесь же прозвучала оценка сборов за 2023−2024 отчётность: порядка 20 млрд руб., причём «окрашенных», то есть предназначенных к возврату в отрасль. Вопрос распределения этих средств — предмет дальнейшего спора, и Союз явно рассчитывает быть в нём профессиональной стороной.
Мощности переработки обозначены как ещё один «бутылочный горлышко». Номинальная пропускная способность действующих утилизаторов — около 10 млн тонн в год, при этом к 2029−2030 годам для выполнения целевых нормативов потребуется до 22 млн тонн в год, то есть фактически удвоение за четыре-пять лет. Эти оценки не выглядят завышенными даже при осторожной трактовке: рост нормативов, расширение перечня товаров под РОП и возможное перераспределение потоков вторсырья в пользу подтверждаемой утилизации неминуемо подталкивают к инвестициям в оборудование и логистику.
Ситуацию осложняют территориальные диспропорции. В стенограмме звучит характерный штрих: «на Дальнем Востоке — ни одного утилизатора» с нужной специализацией; длинные логистические плечи и недогрузка перерабатывающих линий, зависящих от поставок отсортированных фракций. По словам спикеров, перелом возможен, когда в длинных контрактах регоператоров появятся «жёсткие» KPI по передаче фракций утилизаторам и по утилизации, а не только по сбору и сортировке. В качестве примера приводили Московский регион, где контрактные требования к паркам, контейнерам, площадкам и процентам утилизации изначально прописывались жёстче. Общая мысль проста: без нормативной «шторки» поток вторсырья оседает у регоператоров и сортировщиков, а утилизаторы остаются с недогруженными мощностями и «дыркой» в экономике.
Экономика утилизации без грима: когда ставки экосбора не покрывают реальность
Ключевой нерв обсуждения — разрыв между действующими ставками экосбора и фактической себестоимостью работ по «тяжёлым» фракциям. На пресс-конференции привели два показательных кейса.
Первый — батарейки. Сбор тонны — около 34 тыс. руб. даже при использовании сетей розничных программ, утилизация — ещё 30+ тыс. руб. «чистой», технологически корректной переработки. При ставке экосбора порядка 38 тыс. руб. в этой арифметике нет места для спроса на услугу: заказчик не придёт к утилизатору, экономическая модель не сходится. Либо ставка сближается с суммой затрат, либо система неизбежно прячется в серые зоны и имитацию.
Второй — многослойная упаковка. Доставить тонну с сортировочной линии утилизатору стоит, по словам спикеров, в среднем 6−7 тыс. руб. только за «извлечение и логистику», не считая производственных затрат. При этом экосбор по ряду позиций — около 3 тыс. руб. за тонну. Если совокупные расходы на переработку исчисляются, условно, в 9 тыс. руб., «минус» остаётся на стороне утилизатора, и он вынужден либо перекладывать дырку на другие потоки (что нечестно), либо отказываться от фракции (что системно вредно). А теперь умножим этот разрыв на тысячи тонн — и увидим, как появляются островки «экономически невыгодных» отходов, уходящих в захоронение или в псевдоутилизацию.
Союз предлагает ввести «справедливую цену утилизации» как регуляторный принцип: ставки экосбора должны быть привязаны к детализированной калькуляции по группам товаров и видам отходов, с учётом сбора, транспортировки, предобработки, энергозатрат и рисков. Спикеры недвусмысленно дали понять, что готовы приходить «с цифрами на стол» — вплоть до строк калькуляции по электролампам, батарейкам, композитным полимерам и текстилю. В противном случае отрасль так и останется перевёрнутой: «лёгкие» и чистые фракции будут окупаться, а «тяжёлые» — требовать субсидирования или исчезать с радаров статистики.
Политика спроса на вторичную продукцию: закупки, стандарты, «локализация» оборудования
Справедливая ставка экосбора — лишь половина уравнения. Вторая половина — гарантированный спрос на продукцию утилизации. На пресс-конференции прозвучал прямой вопрос о мерах стимулирования закупок продукции из вторсырья: если утилизатор произвёл, но не может продать, тарифная настройка не спасёт экономику. Ответ Союза — прагматичный: вводить долю обязательных закупок с использованием вторичных материалов хотя бы в госконтрактах и госзакупках, затем — расширять в отраслевые стандарты. Указывался прецедент в металлургии; мысль сводится к тому, что массовый заказ в публичном секторе сможет «подсадить» рынок на предсказуемые объёмы и отбить инвестиции. Одновременно Союз нацеливается на диалог с Минпромторгом: переработка — это не только «экологические показатели», но и производство, линии, конвейеры, станки. Сегодня, по оценке спикеров, до 70% оборудования — импортного происхождения или без понятной «родословной». Запрос на локализацию и признание утилизации приоритетной отраслью промышленной политики звучит впрямую.
Расширение «периметра РОП»: гигиена, мебель, медрасходники, стройотходы
Ещё одна линия — инициатива по расширению перечня товаров и отходов, подпадающих под РОП. Союз перечисляет группы, которые в прямом смысле «лежат на поверхности» потоков ТКО: средства индивидуальной гигиены (подгузники, прокладки), фильтры, мебель и матрасы, часть металлических товаров бытового назначения (кастрюли, чайники), а также медицинские расходники. Спикеры указывали, что доля «гигиены» в ТКО заметна, и для ряда этих фракций уже существуют технологические маршруты обезвреживания и/или переработки; уточнение подходов по строительным отходам предложено как отдельная задача, ибо в отдельных случаях их переработка проще, чем у «соседних» фракций коммунального мусора. Включение этих позиций в РОП-перечень способно прибавить подтверждаемой утилизации и сделать баланс реалистичнее.
Отдельная сцена: нефтесервисные отходы и «самоочищение» рынков
В дискуссии всплывали и «пограничные» рынки — например, утилизация отходов нефтедобычи, буровых шламов. Союз публично приглашает игроков этого сегмента к вступлению и готов обсуждать с Росприроднадзором режим «самоочищения» — проверку практик на соответствие лицензиям и экологическим требованиям, вывод «серых» схем из оборота. Месседж адресован, по сути, всей группе B2B-утилизации: отраслевые клубы и пресс-площадки должны работать не только как витрина, но и как инструмент нормализации. Эту повестку подхватывают и профильные телеграм-каналы, освещающие активность Союза между публичными событиями.
«Кто платит за отходы?» и куда направить «окрашенные» деньги
Вопрос «кто платит за отходы» прозвучал жестко и без дипломатии. По словам спикеров, в коммунальной сфере платит население — через тарифы на сбор и вывоз; регоператоры, перевозчики и сортировщики зарабатывают в рамках своих тарифов и контрактов, тогда как утилизаторы нередко платят «сверху» — за извлечение и доставку фракций (тот самый пример 6−7 тыс. руб. за тонну на многослойной упаковке). Поэтому распределение «окрашенных» средств экосбора — вопрос принципиальный. Если 20 млрд руб. уже собраны и по решениям правительства должны вернуться в отрасль, то их движение должно «пробивать» именно узкие места — сложные фракции, удалённые территории, дефицитные мощности, а не поддерживать сектора, которые и без того «в плюсе». Союз, судя по риторике, намерен добиться чётких правил приоритезации этих средств.
Региональные сюжеты: от Владивостока до Московской агломерации
Территориальная картина пока рваная. В отдельных субъектах — дефицит лицензированных утилизаторов и невозможность экономно возить тяжёлые фракции через полстраны; где-то наоборот — есть линии, но нет стабильного потока фракций из-за перекосов контрактов. Московский пример приводился как кейс раннего «жёсткого» контрактования: фиксированные показатели по обновлению парка, контейнерным хозяйством, площадкам и — что важно — по доле утилизации. В «поздних» регионах, где контрактная архитектура выстраивалась с оглядкой лишь на сбор и вывоз, рынок быстрее «ворсится»: крупные операторы уходят, новые не заходят, KPI «расплывается». Для утилизации это означает нестабильную загрузку и провалы в потоках. Общий вывод Союза: потребуются «длинные» договоры с встроенными требованиями по утилизации, а также «федеральные мостики» для отдалённых территорий — от льготных тарифов на логистику до субсидий на мобильные линии.
Организационная «конституция» Союза: кто, как и ради чего
По собственной внутренней повестке Союз движется достаточно быстро. На момент пресс-конференции завершено формирование рабочей дирекции, на первую декаду октября назначено учредительное собрание для утверждения взносов, регламентов, приоритетов и порядка вступления. Критерий членства артикулирован жёстко: лицензированные компании-утилизаторы, включённые в реестр, реально оказывающие услуги, а не «торгующие справками». По словам спикеров, именно эти компании составят «профессиональное ядро», способное не только обсуждать методики, но и «подписаться» под любыми числами, которые Союз принесёт в министерства. За последний месяц к Союзу присоединились 97 утилизаторов; по итогам решения ряда «технических вопросов» ожидается рост.
Одновременно Союз озвучил три приоритета на короткую дистанцию. Во-первых, консультации и «одно окно» для отрасли, включая рецензирование и подготовку к проверкам. Во-вторых, участие в пересмотре и индексации ставок экосбора с привязкой к «калькуляции по факту» — по группам товаров и фракциям отходов. В-третьих, законодательные инициативы: расширение перечня РОП, корректировка подходов к строительным отходам, меры господдержки для наращивания мощностей. Всё это будет вынесено на обсуждение с профильными ведомствами — от Минприроды и Росприроднадзора до Минпромторга, которое Союз призывает смотреть на утилизацию «глазами промышленной политики».
Профессиональная честность: про «100% утилизации» и то, на чём зарабатывает утилизатор
Ещё один важный пласт дискуссии — честный разговор о целевом «100% к 2030-му». Спикеры не идеализируют горизонт: достижимость зависит не только от ставок экосбора, но и от физики материалов и качества исходного сбора. Вопрос «на чём зарабатывает утилизатор» прозвучал принципиально: модель может быть услугной (деньги — за переработку, вторичный продукт — фактически «побочный») или товарной (основная выручка — от реализации вторсырья). Рынок пока «между мирами», и без ясности в контрактной архитектуре и в ставках экосбора по сложным фракциям будет чудить. Это тот случай, когда методологическая ясность влияет на технологическую карту: зная, за что платит система, утилизаторы выстраивают оборудование, логистику и сбыт.
Что означает появление «Росутилизации» для отрасли
Появление Союза не снимает противоречий, но задаёт динамику. Во-первых, у переработчиков появляется инструмент участия в нормотворчестве — не через «шлейф писем», а через коллективно подписанные расчёты и методики. Во-вторых, отрасль получает шанс на адресность господдержки: «окрашенные» деньги и новые инвестиционные меры можно направлять туда, где «болит», а не «по средним». В-третьих, расширение РОП-периметра и стимулирование закупок продукции из вторсырья могут превратить сегодняшние «серые зоны» в устойчивую экономику — со спросом, логистикой и тем самым «мостиком» к удвоению мощностей. Наконец, сам факт появления переговорной стороны с публичной ответственностью — уже сигнал рынку: серым схемам будет теснее, а к «дорогим» фракциям придётся относиться как к инфраструктурному обязательству страны, а не как к побочке. Эти смыслы считываются не только из стенограммы, но и из последующих материалов в «АиФ», где Гизатулин формулирует задачу «дочистить рынок» и обеспечить прозрачность для регулятора и потребителей.
Послесловие для практиков
В каждом абзаце этой истории слышно не только «что делать», но и «как измерять». Если у отрасли получится договориться об общем калькуляторе себестоимости для «тяжёлых» фракций — батареек, ламп, композитных полимеров, текстиля, тех же многослойных упаковок — ставки экосбора и закупочная политика государственного сектора станут предметнее. Если удастся закрепить KPI утилизации в длинных регоператорских контрактах, утилизаторы получат поток и загрузку линий, а не «ручной режим». Если «окрашенные» деньги пойдут адресно — в логистику удалённых регионов и модернизацию мощностей — у двузначных процентов утилизации появится шанс стать трезвой арифметикой, а не амбициозной метафорой. На это и рассчитывает «Росутилизация», выходя на площадки — от клубных обсуждений до пресс-центров и рабочих столов министерств. В этом смысле пресс-конференция в «Аргументах и фактах» стала не витриной, а первой репетицией большой разговорной архитектуры, где экономику отходов перестают считать «после запятой».